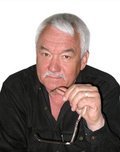Новое есть не что иное, как изрядно забытое старое. Вот и старшеклассникам ныне задолго до экзаменов позволили заняться тренировочным написанием самых что ни на есть простых школьных сочинений. Официально считается, что это повысит грамотность и облегчит выпускникам преодоление важного для их дальнейших судеб ЕГЭ.
Результаты такой новации, само собой, покажет время, на общий же уровень литературной и общей грамотности подрастающего поколения этакое нововведение вряд ли сколь заметно повлияет. Хотя именно эта самая грамотность и должна бы быть визитной карточкой каждого россиянина. Особенно — молодого.
До революции русскую литературу вкупе с русским языком именовали, между прочим, изящной словесностью. Сочинения на ее уроках в разные времена позапрошлого века писали не только Пушкин и Лермонтов, Тургенев и Толстой, но и вообще все садившиеся за школьную парту. Об эффективности тогдашнего обучения можно судить хотя бы по тому, что к началу XX века Россия стала одной из передовых во всех отношениях стран мира. Неграмотной стране этакое, разумеется было бы не под силу. Сегодня, не сомневаюсь, так оценивают прошлые отечественные достижения далеко не все. Об уровне дореволюционного образования, однако, имею возможность судить по истории и преданиям собственной фамилии. Застал еще в послевоенные годы с полдюжины бабушек казачьей своей родни, вполне прилично владевших французским языком и латынью. Были старушки происхождения самого простого, не атаманского и не дворянского, а образованием обладали большей частью гимназическим. На Дону тогда, кто не знает, дочери урядников, вахмистров и рядовых казаков имели полную возможность учиться на общих правах и в имевшихся тогда женских гимназиях, и в Новочеркасском филиале знаменитого института благородных девиц.
Мужская половина семейства тоже особой неграмотностью не страдала. Двоюродный дед Никон Родионов, когда-то впервые сажавший меня на коня, военфельдшер, прошедший две войны, с той же самой латынью был знаком не понаслышке. Родной же мой дед Тихон Иванов сам учительствовал в далеко не последней тогда на Дону станице Романовской, а потом, в советские времена, работал директором школы в соседней Дубенцовке...
Лично мне, считаю, здорово повезло с «изящными словесниками» - учителями русского языка и литературы. Так случилось, что их в моей биографии оказалось довольно много, поскольку отец был военным, и нам часто приходилось менять места семейной «дислокации». Забылось, к сожалению, имя учителя - бывшего фронтового пехотинца, потерявшего на войне правую руку. Невероятно увлеченный своим предметом, он вел обучение по программе, зачастую не совпадавшей с официально утвержденной, за что имел взыскания и наказания от начальства. Мог часами говорить о почти запрещенном в те времена Есенине, знал наизусть «Евгения Онегина», читал стихи Бальмонта, Пастернака, рассказывал о творчестве Ахматовой, Гумилева. Особо восхищался поэзией Тютчева, считал его лучшим русским лириком.
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», - декламировал он, широко размахивая уцелевшей левой рукой. - Какие мудрые слова адресует нам с вами Федор Иванович! Всегда помните этот его призыв быть осторожным со словом. Оно может и оживить, и непоправимо ранить. Учитесь в совершенстве владеть великим русским словом, без чего никогда не стать человеком, полностью соответствующим своему времени, по-настоящему культурным, по-настоящему грамотным!»
Сегодня не представить, какими словами отозвался бы о культуре нынешних выпускников, их грамотности, действующих учебных программах и концепциях бывший фронтовик-пехотинец. Допускаю, однако, что для честной оценки всего этого с ЕГЭ в придачу ему пришлось бы все же изрядно сдерживать себя в подборе литературных слов и выражений…
Так что входим мы с вами в год, объявленный президентом страны Годом русской литературы, несколько подрастерявшими и любовь к этой самой литературе, и уважение к родному языку.
Все меньше и меньше слов требуется современному человеку для повседневного общения с себе подобными. А примитивная речь – увы, свидетельство примитивного мышления…
Прав, прав Тютчев: «…нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». И чем отзовется такое отношение к языку, к слову – тоже. Лишь бы не разучились вообще говорить и понимать по-русски.