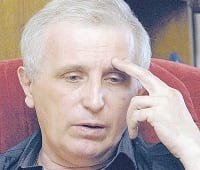Ко Дню чтения великих поэтов
Солнце, которое никогда не заходит
Да, представьте себе, существует в России и такой праздник. Отмечается он 28 апреля. У многих, правда, возникает вопрос: кого из отечественных поэтов считать великими? Каждый решает по-своему. Как говорится, у каждого свой вкус: кому арбуз, кому – свиной хрящик. У меня тоже есть свои предпочтения. Среди особо чтимых – Николай Гумилёв, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Иосиф Бродский. Владимир Высоцкий, конечно. Но самой яркой звездой я считаю Александра Сергеевича Пушкина.
О да, нынче Пушкин для многих, как говорится, «не в тренде». Затасканный в средней школе, он приелся. А вот мы и попытаемся разобраться – действительно ли Пушкин «наше всё», или не всё, или даже не совсем наше?
Прежде всего, заявляю с полной ответственностью – язык современной поэзии до сих пор остаётся именно языком Пушкина, обязан ему не только своим возникновением, существованием, но и развитием. Солнце нашей русской поэзии никогда не заходит. Маяковский, Пастернак, Вознесенский, Бродский – все они изъясняются именно пушкинским языком. Кому-то это покажется парадоксальным: да у Пушкина и образов таких нет, и восприятие мира иное, и музыкальность языка на иных принципах основана… Не говоря уже о постоянных глагольных рифмовках (что ныне считается моветоном) или частых тривиальных рифмах типа стихи-грехи, розы-морозы и проч.
Однако именно пушкинский 25-й кадр лежит в основе русского поэтического языка. Великий Арап первым провозгласил принцип - для поэзии нельзя выдумать язык и стиль. Настоящий поэт должен чувствовать перемены в языке, в окружающей действительности, в психологии людей, в их потребностях. И пропускать всё это через себя, через свою личность.
Да, Пушкин был не первым, кто искал новый поэтический язык взамен тяжеловесных виршей Сумарокова, Тредиаковского, Гаврилы Державина. «Новый слог» начала ХIХ века связан с именем Николая Карамзина, который стремился сблизить литературный язык с разговорным. Но при этом считал, что это должны осторожно делать «люди со вкусом», подбирая понятные для широкого читателя и вместе с тем возвышенные слова из книжного старославянского и «народного» языков.
Так в русской поэзии появились «знаковые» ланиты, чело, десница, кущи, длань, цевница, бренный, брег, глас и прочее. Плюс античные образы и западноевропейские символы типа – розы, мирты, лилеи. Проникли в неё и народные роща, ручеёк, домик, пичужка. Стихи действительно стали более приятственными для слуха.
Настоящий Пушкин как создатель новой поэтической реальности начинается после 1824 года (а то и позже). С «Онегина», «Маленьких трагедий», «Бориса Годунова» и т.д. До этого общество приветствовало Александра Сергеевича именно как романтического поэта, совершенного певца «нового сладостного стиля»…
«Иные мне нужны картины»
Впрочем, нападали на Пушкина за введение в поэзию «хамских» тем и лексики уже с «Руслана и Людмилы». Казалось, там-то что криминального? А вот поди ж ты… О поэме писали:
«Возможно ли просвещенному или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писаную в подражание Еруслану Лазаревичу?.. Позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втёрся гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели стали бы таким проказником любоваться?»
Собрат поэта по перу Дмитриев отрезал:
«Мать дочери велит на эту сказку плюнуть».
«Защитники нравственности» брезгливо называли стихи Пушкина «бурлацкими», «мужицкими», «неприличными», «низкими».
И впрямь, «Евгений Онегин» перевернул всю русскую поэзию! Он ввёл в неё язык улицы, трактиров, торговых рядов, просвирен. Напрочь сломал границы поэтической лексики, тем, табу. В этом смысле вся нынешняя поэзия основана на Пушкине. Вся как есть.
Помните отрывки из путешествия Онегина:
Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, Фонтан Бахчисарая!
Конечно, не таким. Поздний Пушкин буквально купается в самоиронии, часто это звучало для современников вызывающе:
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака…
Заряд заложен: для поэзии нет высокого и низкого, грязного и чистого, допустимого и недопустимого. Вот он, 25-й кадр Пушкина.
И в этом вторая, неоценимая заслуга Александра Сергеевича: он провозгласил полную поэтическую раскованность, отсутствие любых табу для стихотворца, право на самые рискованные эксперименты.
Пушкина порою обвиняют в том, что поэзия его была переимчива. В чём-то это справедливо. К примеру, вот:
Люблю болтать с друзьями до рассвета,
Люблю в журналах мир и на земле,
Правительство люблю я (но не это),
Люблю закон (но пусть лежит в столе)….
Люблю я уголь, но недорогой,
Люблю налоги, только небольшие,
Люблю бифштекс, и все равно какой…
Это Байрон, ироническая поэма «Беппо» (сам Александр Сергеич указывал, что она его вдохновила на «Онегина»). Но Пушкин идёт дальше Байрона, доводя до совершенства формальные приёмы, которые у Байрона лишь намечены, притом в жанре ироническом. Чего стоит пушкинское перечисление, в результате которого возникает эффект бешеной скачки:
Возок несётся чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах,
И стаи галок на крестах.
Да в этой словесной прелести просто купаешься! Конечно, Александр Сергеевич не совершил такого переворота в рифме, как Пастернак, Вознесенский, Ахмадулина, Бродский... Но нельзя требовать невозможного! Поэтический язык определяется развитием общества. Пушкин достиг пределов современной ему литературы. В самом деле, представьте, что он создаёт в начале позапрошлого века такие достаточно простые строки:
С намеренным однообразьем,
Как мазь, лесная синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.
Синева – мазью ложится на рукава?! Да ещё с намеренным однообразьем?! Она что же, мыслящая, что ли? У неё, оказывается, есть намерения… Ха-ха-ха! И упекли бы Арапа под надзор врачей, как его приятеля Чаадаева. Чтобы Пастернак смог написать эти строки, должен был случиться громадный перелом в психологии человека ХХ века, прогреметь страшные войны, революции, произойти ломка художественных вкусов под влиянием футуризма, имажинизма и прочих измов…
Мы сегодня не в силах даже приблизительно представить, какие темы, мотивы, взрывы в головах наших потомков произойдут к середине XXII столетия. С освоением космических пространств, переменой климата, поисками новых мест обитания в галактике…
Гении меняют жизнь, но не навечно.
Чильльд Гарольд, швейцарские «котлы» и вечность
Обвинять Пушкина в обилии примитивных рифм нелепо. Напротив, его поэзия богата и на сочную рифмовку, и на звукопись.
Такой раскованности, как в «Евгении Онегине», не достигал никто из его поэтических собратьев:
Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день…
Откуда взялась рифма «Чильд Гарольдом – сО льдом» в первой половине позапрошлого века?! А шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой из «Медного всадника»? Пушкин внёс и манеру пересыпать русскую речь иностранными вкраплениями на языке оригинала:
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (He могу...
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести).
Сейчас этим приёмом не пользуется разве что ленивый.
Кстати, даже поэзия ХХ века долго ещё не могла заговорить по-новому. Потрясающее, пронзительное содержание на три корпуса опережало рифму:
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди…
Это Симонов, жди-дожди.
А вот и Лев Ошанин, дороги-тревоги:
Эх, дороги,
Пыль да туман,
Холода-тревоги
Да сплошной бурьян…
В то время это было трогательно и душевно. Сегодняшний поэт писать так не имеет права. Но – писали же. И пишут.
А продолжателем пушкинской поэзии я считаю хотя бы Иосифа Бродского, который в стихах свободно смешивал высокий и низкий штили, достигая удивительной пронзительности:
Не в драчке, я считаю, счастье
в чертоге царском,
а в том, чтоб, обручив запястье
с котлом швейцарским,
остаток плоти терракоте
подвергнуть, сини,
исколотой Буонаротти
и Боромини.
Вот это жаргонное «котлы» в смысле «часы» и Микеланджело Буонаротти и придают особую прелесть современной русской поэзии. Нет-нет, жаргон вовсе не обязателен. Но обязательна раскованность.
Вот поэтому Александр Сергеевич – наш 25, 26, 27 и далее до бесконечности кадры. И он будет ещё долго определять пути развития будущей поэзии. Скорее всего, всегда. Потому что Россия без Пушкина просто немыслима.