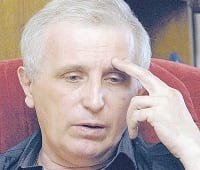Дата публикации:
9 июн 2023 г.
6 июня мир отметил День русского языка.
1131
Как министр отказался писать диктант
На прошедшей неделе я отметил один из самых дорогих для меня праздников – День русского языка. Его приурочили к 6 июня – дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, которому наш язык обязан появлением в том виде, в каком мы его используем.В качестве официального государственного праздника мы получили это торжество не так давно – в 2011 году. Процедура проходила со скрипом, чуть ли не насильно. Впервые День защиты русского языка провела в 2007 году Русская община тогда ещё украинского Крыма. А с 6 июня того же года здесь появился Международный фестиваль «Великое Русское Слово».
Однако в 2007 году наша родная речь знаменательной ежегодной даты так и не получила. Хотя официально он был объявлен Годом русского языка. Более того: 27 декабря юрист и журналист Иван Клименко в публикации «Парламентской газеты» («Да будет день!») впервые предложил пополнить календарь новым праздником – Днём русского языка. Автор настаивал: «Опыт именного Года свидетельствует о том, что для непременного развития языка в каждом грядущем календарном году обязательно должен ещё быть и один именной День. День русского языка». Увы, российская власть не обратила внимания на предложение Клименко.
Да что Клименко – в 2010 году Организация Объединённых наций волевым решением сделала День русского языка международным! Сделано это было и в отношении других официальных языков ООН, коих насчитывается ещё пять:
20 марта – День французского языка (Международный день франкофонии);
20 апреля – День китайского языка (посвящён Цан Цзе, основоположнику китайской письменности);
23 апреля – День английского языка (день рождения Уильяма Шекспира);
23 апреля – День испанского языка (день смерти Мигеля Сервантеса);
6 июня – День русского языка (день рождения Александра Пушкина);
18 декабря – День арабского языка (день утверждения в 1973 году решения о включении арабского языка в число официальных и рабочих языков ООН).
И только через год после этого российский президент Дмитрий Медведев в стенах Государственного института имени Пушкина подписал соответствующий указ об учреждении ежегодного празднования русского языка. Любопытная деталь: после возложения цветов к бюсту поэта Дмитрий Анатольевич с сопровождавшими его чиновными лицами отправился осматривать институт. Его пригласили в компьютерный класс, где студенты как раз проверяли свою грамотность с помощью интерактивных диктантов ГРАМОТЫ.РУ. И президент вдруг обратился к стоявшему рядом тогдашнему министру образования и науки Фурсенко: «Андрей Александрович, а слабо Вам прямо сейчас присоединиться к ребятам и показать свои знания?». «Нет-нет, как-нибудь в другой раз», – отклонил заманчивое предложение министр. Ну, на нет и суда нет.
Виселица в награду и мышкующая лиса
Однако главное не в статистике Конечно, в глубине души приятно знать, что на русском языке говорят 146 миллионов граждан нашей страны и ещё 127 миллионов – за рубежом. А по численности говорящих наш язык занимает восьмое место в мире – после английского, китайского, хинди, испанского, арабского, бенгали и французского. По числу переведённых литературных произведений русский язык уже на седьмом месте, а среди языков, с которых чаще всего переводят, – на четвёртом. Да толку-то со всех этих рейтингов… Что же теперь, плясать вприсядку?К тому же не всегда статистика отражает реальную действительность. Например, по числу пользователей интернета мы на этом шарике – девятые, зато по количеству сайтов на русском языке занимаем по планете… второе место после англосаксов! А? Не слабо?
Да и это ерунда. Никакие цифры не расскажут вам о сочности, богатстве оттенков, вкусе каждого слова родной речи. Многие из нас об этом вообще не задумываются. А зря. Ведь дело даже не в лексическом богатстве русского языка, в его словарном запасе. Как говорил персонаж Евгения Евстигнеева в комедии «По семейным обстоятельствам»: «Вот у нас мужик всего три буквы выговаривает, а его все понимают». Язык наш необычайно гибок, он позволяет менять слова в одной фразе местами жонглировать ими.
Возьмём признание «Я вас люблю». По-английски –«Ай лав ю». И никак иначе, потому что в иных случаях выходит косноязычно и нелепо – «Лав ай ю», «Ай ю лав», лав ю ай». В немецком ещё строже, там подлежащее и сказуемое гвоздями к своим местам приколочены – «Ихь либе дихь». Не дай бог по-другому! «Дихь либе ихь», «ихь дихь либе» – это ляпнет разве что недоразвитый деревенщина или вусмерть упившийся алкаш, которого вышвырнули из пивной забегаловки на углу. А в русском… «Я тебя люблю», «тебя люблю я», «я люблю тебя», «люблю я тебя»… И в каждом случае – свой оттенок. А уж если говорить о более многословных предложениях, возможности вообще неограниченные.
Мне очень жаль иностранцев, которые читают нашу классику даже в самых замечательных переводах. Сколько они упускают… Ну не любит русский язык рабской грамматики! Не любит – и всё тут.
Вот Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мы читаем и наслаждаемся, как воду пьём, не понимая, что это – чудотворный источник: «Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле – виселица…».
Оставим в стороне блистательную иронию Николая Васильевича, остановим взгляд на его стиле: не «великие достоинства», а «достоинства великие», не «которым на земле есть только одна награда», а вот как раз – «которым одна только награда есть на земле»… Неспроста же писатель расставлял слова именно так, а не иначе! Ведь экая прелесть его неподражаемый слог, а вкупе с юмором он просто крышу сносит!
Достоевский, Лесков, Шолохов, Булгаков, Шукшин – о каждом из них можно сказать то же самое. Взять отрывок из «Поднятой целины», которую некоторые горе-литературоведы считают «слабым романом»; обратите внимание, как Михаил Александрович передаёт многообразие звуков, морозную погоду:
«Давыдов долго бежал, держась за грядушку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, притаившись, задремал. Повизгивали подреза полозьев, с сухим хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал валёк у правой дышловой. Иногда Давыдов из-под запушённых инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дрёма смежала ему глаза.
Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке – рдяно-желтую, с огнистым отливом, лису. Лиса мышковала. Она становилась в дыбки, извиваясь, прыгала вверх и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутываясь сияющей серебряной пылью…»
Как передать на чужой язык эти «позванивали», «подвизгивали», «разноцветье», «рдяно-жёлтая, с огнистым отливом», «мышковала»? Не «с огненным» – с «огнистым», не «повизгивали», а именно что «подвизгивали». Ох, не завидую переводчикам…
Опять англичанка гадит, или Не пора ли мочить в сортире?
Открою тайну не дюже великую: я всю жизнь учусь писать у наших великих писателей. А их у нас – множество. Одни из моих любимцев – поморские сказители Борис Шергин и Семём Писахов. Ну, Шергина-то вы должны помнить по мультику «Волшебное кольцо»:«Жил Ванька двоимо с матерью. Житьишко было само последно. Однако Ванька ходил кажной месяц за пенсией…». Да постоянно до дому пенсию не доносил: то собачку купит, то кошечку, а то и вовсе змею Скарапею: «Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовёт, по отчеству не величат, выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей кажной раз на хвост наступит».
Ну вот как такую прелесть на чужую мову перескажешь?! Увы, даже отечественная молодёжь страшно далека от родного языка. Куда там говоры – дай бог литературный русский освоить через пень-колоду. Вот мнение доктора филологических наук, профессора Маргариты Русецкой:
– У современного россиянина словарный запас составляет примерно 10 тысяч слов. Но многие жители мегаполиса сегодня не могут похвастаться запасом и в три – пять тысяч. Что уж говорить про некоторых подростков, которые используют не более пары тысяч слов. Перед нами встала задача найти новые подходы, которые помогли бы сформировать у молодежи интерес к родному языку.
По мнению Русецкой, после революции словарный запас россиян сократился вдвое. В царской России виртуозное владение родной русской речью считалось обязательным признаком образованного человека, равно как и богатый язык. В XIX веке словарные фонды русского и английского языков, судя по словарям, были примерно равными. Более того, Толковый словарь Владимира Даля даже лидировал.
Начало разрыву между словарными фондами двух языков положила Октябрьская революция 1917 года. Тогда уничтожались целые социальные слои, являвшиеся хранителями национального интеллекта – дворянство, духовенство, представители интеллигенции. К началу 1940-х годов запас русского рабоче-крестьянского языка сократился вдвое, а словарный фонд английского вырос втрое.
На мой взгляд, Русецкая не совсем права. В позапрошлом и начале прошлого веков образованный слой нашего имперского общества представлял собой тонкую прослойку, и эта группа людей действительно отличалась богатым словарным запасом. Первые довоенные советские десятилетия и впрямь вымыли значительное количество интеллигенции, но уже в 1930-е годы её ряды стали существенно пополняться – причём этому способствовали интеллигенты «старорежимной» закалки, которые преподавали в новых вузах. Конечно, процесс подкосила Великая Отечественная, однако новый слой образованных людей всё равно был многочисленнее, чем в имперской России. Укрепление новой творческой и технической интеллигенции поддерживалось государством.
А вот сейчас как раз дело обстоит не самым лучшим образом. Здесь с профессором Русецкой приходится согласиться. Особенно часто приходится слышать упрёки в засорении русского языка огромным количеством англицизмов: булинг, харрасмент, хайп, фрик, тренд, троллинг, спойлер, таргетировать, менеджер, креативный, коучер, нарратив, каршеринг, лайкать, лизинг, клик, клинер, аутсортинг, сиквел, приквел…
Опять «англичанка гадит». Но Госдума уже отреагировала на эту «массированную атаку». 28 февраля этого года были приняты изменения в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Согласно тексту документа, при использовании русского языка в качестве государственного не допускается использование слов или выражений, которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Исключением являются только те иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Под нормами современного русского литературного языка понимается «совокупность языковых средств и правила их использования, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках». Документ предполагает создание списка таких изданий. В пояснительной записке он называется «единым корпусом» грамматик, словарей и справочников. Список будет составлять правительственная комиссия.
В результате нормы современного русского литературного языка должны будут неукоснительно соблюдать органы власти всех уровней, суды, СМИ, производители рекламы. Это же относится к показам фильмов в кинозалах, театрально-зрелищным, культурно-просветительным и зрелищно-развлекательным мероприятиям, написанию наименований географических объектов и нанесению надписей на дорожные знаки.
Вот тут, как говорил управдом Бунша в комедии Михаила Булгакова «Иван Васильевич», «меня терзают смутные сомнения». Прежде всего по поводу фильмов в кинозалах и театрально-зрелищных мероприятий. Как же быть со свободой творчества? Меня уже задолбала придурашная цензура на телевидении, где в кадре размываются изображения сигарет и женских грудей. А теперь любое просторечное слово, разговорную лексику будут «запикивать»?! Ряд экспертов отмечают, что не до конца понятны механизмы контроля за речью чиновников, а также кто и как будет за это наказывать. Так, филолог Андрей Пушкарёв задал справедливый вопрос:
– Вышел депутат Госдумы на трибуну, неправильно поставил ударение в слове, то есть использовал русский язык не в соответствии с нормами русского литературного языка – его что, будут штрафовать? А кто же будет это делать? Будет ли в первом ряду сидеть сотрудник Института русского языка РАН и считать ошибки?
В общем, давайте там поаккуратнее. Перестанем кошмарить бизнес и мочить в сортире. Ой, я, кажется, что-то не то процитировал…