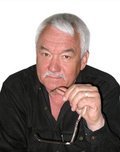Дата публикации:
7 авг 2015 г.
История с фотографией
Местом события, о котором пойдет речь, стала Москва, и это обстоятельство вряд ли можно считать чем-то из ряда вон выходящим, поскольку испокон веков известно: на Руси все дороги непременно ведут в столицу. Мало у кого из побывавших хоть раз в белокаменной не случалось там самых неожиданных встреч, навсегда потом оставшихся в памяти и судьбе. От множества таких примеров эта история с фотографией между тем все же отличается, так как произошла она в самом начале 1942 года, когда у стен столицы решалась судьба не только главного города великой страны, но и всего нашего Отечества.
1250
Люди на фото – братья. Слева – мой будущий отец, лейтенант Иванов Василий Тихонович. Справа – его старший (на три года) брат, рядовой Иванов Евгений Тихонович, будущий родной мой дядя Женя. В уже далекие сегодня пятидесятые годы не раз гостил я во время школьных каникул в его гостеприимном и хлебосольном семействе, обитавшем в уютной казачьей хате станицы Дубенцовской. Одну из стен ее занимали немудреные литографии, картинки из дореволюционной «Нивы», портреты советских маршалов-военачальников и в общем-то немногочисленные фотоизображения представителей разных поколений рода Ивановых. В их числе и эта самая военной поры фотография братьев Василия и Евгения. Ее история родне из Дубенцовки известна была в подробностях, ее не раз рассказала мне добрейшая наша то ли двоюродная, то ли троюродная бабушка Маша. Вот только за давностью лет в памяти многие подробности практически стерлись. Очень плохо помню, к примеру, обстоятельства, приведшие в начале января 1942 года рядового водителя полуторки Евгения Иванова на временный постой в один из заводских клубов Красной Пресни, приспособленный под армейскую казарму. Кажется, в начале войны дядя Женя воевал в составе войск резервного фронта, был серьезно контужен, отправлен в тыл, благодаря чему избежал страшного окружения под Вязьмой, где весь резервный фронт полег практически полностью и был сформирован во второй раз лишь 12 марта 1943 года…
А вот как попал в краснопресненскую казарму мой будущий отец – новоиспеченный к началу января артиллерийский лейтенант Иванов, знаю по его воспоминаниям, которые в детстве и юности слышал не раз. Сколько доведется жить на белом свете, не уйдет из души горечь, что я, в конце концов ставший профессионально пишущим человеком, так и не удосужился тогда записать фронтовые истории собственного отца.
В отличие от старшего брата, отправившегося в военкомат в первый день войны, Василий Иванов еще в конце мая 1941 года после окончания краткосрочных командирских курсов был направлен в стрелковую дивизию, расквартированную в летнем лагере под Белой Церковью, где и встретил начало войны, попав ранним утром погожего летнего дня под массированную многочасовую бомбежку. В ожесточенных боях довелось отступать к Смоленску, потом под Вязьмой остатки дивизии, входившей в войска Западного фронта, оказались в гигантском котле немецкого окружения. Восьмидесяти пяти тысячам бойцов и командиров удалось вырваться из него, общие же потери Красной Армии составили тогда около семисот тысяч человек. Младшему лейтенанту Иванову судьба позволила выйти из окружения вместе с шестнадцатью бойцами. Откатывающийся фронт догоняли, почти месяц передвигаясь ночами по лесам. К своим прорвались аж под Можайском, где всех окруженцев ждала очень серьезная проверка соответствующими службами. Поскольку подчиненные младшего лейтенанта, как и он сам, вышли со своими документами, со своим штатным оружием, в остатках собственной форменной одежды, проверяли их всего пару дней, а потом распределили по вновь формируемым подразделениям. Отцу присвоили очередное звание - лейтенант - и направили служить в артиллерийский полк, поскольку до войны он успел окончить мореходное училище и стать штурманом, что предполагало добротное знание математики, совершенно необходимой в артиллерийском деле. В составе артполка лейтенант Иванов участвовал в обороне Москвы и в начале 1942 года был направлен в столицу за пополнением. Вместе с несколькими сослуживцами на ночлег был определен в клуб-казарму на Красной Пресне, куда они и добрались вечером аккурат накануне православного Рождества, о котором тогда, по правде, никто и не вспомнил. Но общее настроение уже было если и не совсем праздничное, то уже и вовсе не унылое, поскольку фашистов удалось отбросить от Москвы, и эта одна из первых побед над врагом по-настоящему воодушевила всех.
В зрительном зале краснопресненского клуба стояли двухъярусные солдатские койки, а на сцене в кругу бойцов под лихую гармошку кто-то выплясывал с гиканьем и посвистом.
- Мой брат Женька большой любитель и мастер вот этак поплясать, - похвастал тогда лейтенант Иванов.
Забросив на свободную кровать тощий вещмешок с новенькой портупеей, он поднялся на сцену к шумной компании представителей едва ли не всех родов войск того времени. И как сам позже не раз вспоминал, почти не удивился, обнаружив главным действующим лицом происходившего собственного старшего брата. Словно такая встреча была событием совершенно обыденным и привычным, а не удивительнейшей случайностью, для которой даже весьма предусмотрительная на все случаи жизни теория вероятности отводила совсем ничтожный шанс. Насколько он был мал, можно судить хотя бы по тому, что одних только обладателей медали «За оборону Москвы», утвержденной Указом Верховного Совета СССР 1 мая 1944 года, оказалось в итоге более миллиона человек…
Рождественским утром 1942 года братья успели не только сфотографироваться в одном из как ни в чем не бывало работавших тогда в столице фотографических ателье, но и получить срочно изготовленные фотокарточки, одна из которых была тут же послана родителям в далекую донскую станицу Дубенцовскую…
Фото из семейного архива автора