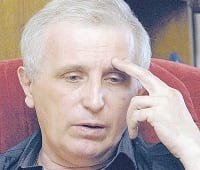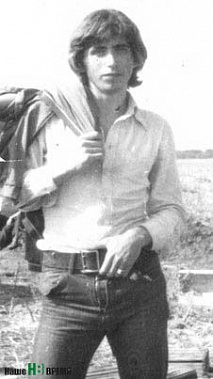Праздник, который всегда со мной
Радостные «мученики науки»
Знаменательных дат и юбилеев у нас в стране, а тем паче в мире – пруд пруди. Для пытливого ума повод выпить найдётся всегда. Вот, к примеру, с предыдущей пятницы по эту можно было поднять стопку, рюмку, бокал и прочие сосуды за –
16 ноября – Всероссийский день проектировщика, Международный день толерантности;
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции, День черной кошки, Международный день студентов;
18 ноября – День рождения Деда Мороза;
19 ноября – Международный мужской день, День ракетных войск и артиллерии, День работника стекольной промышленности;
20 ноября – Всемирный день ребенка, а заодно – 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф, первой женщины – лауреата Нобелевской премии по литературе, автора книги о путешествии Нильса с дикими гусями, ставшей почти русской народной сказкой;
21 ноября – Всемирный день телевидения, День работника налоговых органов РФ, День бухгалтера в России, Всемирный день иммигранта, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий;
22 ноября – День психолога в России, День сыновей;
23 ноября 2018 года – 110 лет со дня рождения Николая Носова, автора культовой советской трилогии о коротышке Незнайке…
Не жизнь, а сплошной праздник!
Но я отметил из всего списка только один – Международный день студентов. Далеко не все читатели моих опусов учились в вузах, и потому им может показаться, что день студентов – не про них. Ошибаетесь. Есть у нашего земляка Антона Павловича Чехова грустная комедия «Вишневый сад», где одно из действующих лиц – «вечный студент» Петя Трофимов. Так вот, все мы с вами – вечные студенты, а жизнь – наш вечный университет. Когда человеку перевалило за 60, годы своей студенческой молодости он всегда вспоминает с лёгкой печалью. И в то же время – со светлой радостью.
Тогда, в далёком уже 1976-м, вышел потрясающий альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти», и вся страна (студенты, рабочие, колхозники) запела знаменитую:
Во французской стороне,
На чужой планете,
Предстоит учиться мне
В университете.
До чего тоскую я –
Не сказать словами,
Плачьте, милые друзья,
Горькими слезами.
На прощание пожмём
Мы друг другу руки,
И покинет отчий дом
Мученик науки…
На самом деле никто из нас, в отличие от средневекового автора песни – блуждающего школяра (ваганта), плакать не собирался. Это была великая радость – поступить в «универ», ставший на всю жизнь нашей альма матер.
От сессии до сессии живут студенты весело
В «универе» воздух свободы полыхнул нам в лицо с первых дней учёбы. В этом мне признавались многие сокурсники и ребята с других факультетов. Школа была всё-таки несколько казарменным учреждением: строгое посещение уроков, обращение к ученикам на ты, фельдфебельский нрав некоторых преподавателей. Да, были любимые, замечательные учителя, но в целом школа давила на психику – кому слегка, кому изрядно. К тому же в отроческом возрасте силён феномен детской жестокости. Нередко слабых, беззащитных травили одноклассники (слегка или довольно жестоко). И многие ребята ждали прощания со «школьными годами чудесными» как освобождения из-под спуда.
В вузе дело обстояло иначе. К тебе с первых дней обращались на вы, общались как со взрослым человеком. Ты чувствовал уважительное отношение со стороны преподавателей. И был абсолютно свободен в своих поступках. Хочешь – иди на лекцию, семинар, коллоквиум, хочешь – махни рукой. Всё зависело от внутренней дисциплины и сознательности. Увы, с некоторыми такая вольность сыграла злую шутку. Уже на первом курсе у нас отчислили парочку студентов за неуспеваемость: ходи-не ходи, а сессию сдавать надо… Как пелось в известной песенке,
От сессии до сессии
Живут студенты весело,
А сессия – всего два раза в год.
И эти два раза надо было брать штурмом. Преподаватели, конечно, с неодобрением относились к студентам, регулярно пропускавшим их лекции. И спрашивали особо. Однако главным требованием было знание предмета. На первых курсах я считался прилежным студентом, но затем вольный ветер подхватил и меня. Помню, профессор Георгий Хазагеров, преподаватель русского языка, немилосердно гонял меня по всему материалу, поскольку я не ходил на многие его лекции. Но я неплохо подготовился и ответил на отлично. Так сказал сам профессор. И влепил мне четвёрку – впредь будет наукой… Увы, вскоре я снова наступил на те же грабли. Грета Эдуардовна Кучерова-Эйхе, прежде чем допустить прогульщика лекций по зарубежной журналистике к экзаменам, заставила меня написать за два дня курсовую работу на две тетради (даже ночью строчил). А затем гоняла на экзамене, как борзую по полям. Но всё же поставила «отлично» (женщина)…
Наши «преподы» – особая история. Многие из них мне вспоминаются в нимбе святых. Ольга Сергеевна Слезина, открывшая нам мир древнерусской литературы, – с её вечной папироской в зубах (не то «Беломор», не то «Север») и язвительной иронией. Алла Арсентьевна Кузнецова, проводник по древним Греции и Риму, волоокая, пышная, с томным, завораживающим голосом. Александр Иванович Станько, седоватый мэтр, мягкий и добродушный – он посвящал нас в историю русской журналистики. Нина Владимировна Забабурова, совсем молодая, слегка за тридцать, с изящным чувством юмора, специалист по зарубежной литературе, автор первого полного перевода «Романа о розе» Жана де Мёна. Саакян, Корнилов, Шибаева, Соколов – разве всех перечислишь… Они вели нас в новые миры, учили мыслить легко, свободно – и этим наслаждаться. Поклон вам земной, дорогие моему сердцу наставники и учителя.
Всем хорошим в себе я обязан вузу
Сейчас многие любят поговорить о репрессиях, кровавом КГБ, тоталитарном господстве компартии. Всё это действительно имело место. Правда, не совсем в тех масштабах, чтобы говорить о «чудовищном и мрачном советском прошлом». Как говорится в Библии: «и был вечер, и было утро». Что бы ни говорили об «октябрьском перевороте», зверствах и деспотизме большевиков, надо признать: «Мятеж не может кончиться удачей, В противном случае его зовут иначе». Маршак прав. Революция была потребностью народа, иначе её бы никто не поддержал.
Даже сталинская эпоха – далеко не одни только репрессии. Я часто привожу статистику: уже в 1930-е годы в СССР действовали более 1300 вузов! Чтение стало насущной потребностью десятков миллионов человек, обречённых в царской империи на безграмотность или малограмотность. Как описывал Пастернак свою поездку в электричке (начало 1941-го):
Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразии поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос…
Заработали социальные лифты. Молодёжь из глубинки, из «медвежьих углов» пополняла ряды талантливых математиков, физиков, филологов, актёров, художников, писателей. А блистательный ИФЛИ – Институт философии, литературы и истории, который дал стране и миру плеяду замечательных поэтов, писателей, мыслителей! И патриотов, многие из которых сложили головы в Великую Отечественную.
СССР был страной студенчества, наша система образования считалась одной из лучших в мире. Это и я могу подтвердить. Когда группа студентов отделения журналистики филфака (в их числе и ваш покорный слуга) летом 1976 года побывала в Германии по обмену студентами с университетом Лейпцига, между нами и немецкими студиозусами состоялся примечательный разговор. Они поинтересовались, какие предметы мы изучаем. Пошло перечисление: античная, древнерусская, русская, советская, зарубежная литература, философия, логика, история религий, история отечественной и зарубежной журналистики, экономика… «А зачем? – изумились немцы. – Мы учим только предметы по специальности! То, что прямо связано с журналистикой». Мы удивились. Поскольку были убеждены: все названные предметы непосредственно связаны с журналистикой. Да, нам читали и специальные курсы: газетные жанры, литературное редактирование, практическая стилистика и прочее. Но считалось, что журналист обязан быть всесторонне образованным человеком. На то и университет, чтобы давать универсальные знания. И давали их щедро, не скупясь. Всем хорошим в себе я обязан книгам, сказал Максим Горький. Я добавлю – и своим студенческим годам, которые, по сути, вылепили из меня свободно мыслящего человека.
Конечно, студенты бывают разные. Из некоторых вырастали негодяи, проходимцы, мошенники, приспособленцы. Как писал Юрий Левитанский:
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
И тут уже не спасут никакие университеты.
Ностальгия по пампасам
Шарахнул гром, понеслись отголоски,И голуби – рраз! – разлетелись под крыши,
А кто-то красивый и очень плоский
Нам улыбнулся с киноафиши.
Он так хотел, чтобы мы забыли
Про наш
про письменный
про экзамен
И всё глядел на нас голубыми
Глубокомасляными глазами.
Он мчался в прерии и пампасы,
В коня вонзая острые шпоры,
И нас манил в билетные кассы
Своею шляпой широкополой.
Ах сиу да кроу, ах стрелы и пули!
Признайся: с тобой сдержались едва мы –
Но, сердце скрепя, под дождём рванули
В библиотеку, а не в вигвамы.
К чему рассказывать всё подробно?
Ты лез из кожи, а я – тем паче.
Мы сдали экзамены бесподобно,
И мимо, мимо неслись апачи.
Как жаль, что с ними не по пути нам –
Эх, схватки жаркие на экранах!
Но нас тянуло к другим картинам:
Ты помнишь – Брейгель, Дюрер и Кранах…
Вали в кино, не шурши листами!
Но это было не по плечу нам,
И мы Макбета предпочитали
Потомку славного Инчу-Чуна.
Но, видно, не только кверху расти нам,
Вернулись на прежние мы орбиты.
Прости, Майн Рид, и Купер, прости нам,
Карл Май, на нас не таи обиды.
Примите блудных сынов в вигваме,
Оставьте место нам у костра вы,
Мы трубку мира раскурим с вами…
Мы были молоды. И неправы.