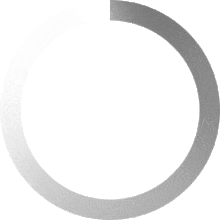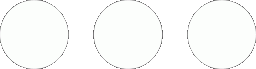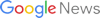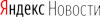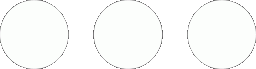
Так вышло, что о трагической гибели Калашникова я узнала не из сообщений СМИ, а из стихов. Был вечер бардовской песни и поэзии, и вдруг прозвучал стих, где это имя — в ряду всем известных поэтов, ушедших до срока, не дожив, не допев. Хотелось обмануться мыслью, что это о другом какомто Калашникове, но в таком ряду стоять мог только он один — Виталий, поэт легендарной «Заозерной школы».
Их было пятеро: Геннадий Жуков, Виталий Калашников, Игорь Бондаревский, Александр Брунько и Владимир Ершов. Каждый — посвоему колоритен, в том числе и внешне. Калашников, как верно заметил поэт и художник Андрей Анпилов, более всех заозерников походил на романтического поэта: «Всегда восторженная речь, кудри до плеч… Юный, вечно на бегу, всегда отчегото веселый и чемто вдохновленный, интеллектуально подвижный. Влюбленный, как Арамис, и самоуверенный, как д’Артаньян».
Когда он заходил в мою мастерскую, туда врывался самум, вносит еще один штрих в его портрет Владимир Ершов.
Мое знакомство с Калашниковым пришлось на середину 80-х годов, в то время он нередко заглядывал в нашу редакцию, среди сотрудников которой были и его добрые знакомые. Я не сразу узнала, что парень с обаятельнейшей улыбкой, всегда кудато еще пытавшийся успеть, — поэт. Когда коллега дал мне почитать отпечатанные на машинке стихи этого парня, они меня поразили. Это было так искренне, так просто и в то же время волнующе. Родные просторы превращались в какуюто сказочно прекрасную картину:
Смываю глину и сажусь за стол,
За свой рабочий стол возле окна.
Блестит Азов, а розовый Ростов
По краю быстро схватывает тьма.
Светило плавит таганрогский мол
И расстилает алую кайму.
Ростов в огнях, а розовый Азов
Через минуту отойдет во тьму.
Еще блестят верхушки тополей,
Но их свеченье близится к концу,
С последней зыбкой кучкою теней
Плывет баркас по Мертвому Донцу.
Смыкает мрак широкое кольцо,
В котором гаснет слабый отблеск дня,
И вот мое спокойное лицо
Глядит из черных стекол на меня.
Молва о заозерниках разнеслась тогда широко. Многие, даже далековатые от поэзии, чтото о них слышали. Чаще, пожалуй, о том, что не вписываются в Систему, нашли прибежище гдето среди руин древнего Танаиса. Слухи порождали ожидание стихов с изобличительным политическим уклоном. И вот — концерт «Заозерной школы» или с ее участием — и часть публики в недоумении: а где же политические манифесты? Где (на худой конец) контрреволюционная ломка фраз и слов? Все в русле классических традиций. Стихи о жизни, о природе, и больше всего — о любви.
Мы шли по степи первозданной и дикой,
Хранящей следы
промелькнувших династий,
И каждый бессмертник
был нежной уликой,
Тебя каждый миг уличающей
в счастье.
Мы были во власти того состоянья,
Столь полного светлой
и радостной мукой,
Когда даже взгляд отвести — расставанье,
И руки разнять нам казалось разлукой.
Это — фрагмент из поэмы Виталия Калашникова «Хижина под камышовой крышей» вещи, достойной Антологии русской поэзии XX века.
Конечно, они не были ни оппозиционерами, ни диссидентами, считает тогдашний директор музеязаповедника «Танаис» Валерий Чеснок. — Не хотели вписываться в Систему, чтобы жить по указке? Да. Но уже одно то, что благодаря их участию пушкинские поэтические праздники в Танаисе сделались заметным явлением, привлекли множество молодежи, было большим хорошим делом. Я до сих пор не могу найти ответа на вопрос, почему эти праздники игнорировали (за редким исключением) члены Союза писателей? Может, завидовали энергии и напористости таланта «Заозерной школы»?
«Не любят поэты поэтов», так охарактеризовал обстановку на подступах к Парнасу наш земляк, большой российский поэт Леонид Григорьян. У заозерников было поиному.
Взахлеб дружили, читали друг другу стихи, друг другом бредили, вспоминает те годы Владимир Ершов. Мысль о дружбе как одной из составляющих успеха «Заозерной школы» промелькнула и в моем разговоре с Игорем Бондаревским. Большая дружба — это вообще мечта. Публика интуитивно потянулась к поэтам, окруженным ее ореолом.
Их дружба выдержала многие искушения и испытания — и временем, и расстоянием, и успехом. Жизнь развела, но все равно общались: перезванивались, посылали друг другу новые литературные опыты.
Под Новый год Калашников прислал Бондаревскому свои стихи, а того как раз пригласили выступить в ростовском арткафе «Ложка», и он их там прочел под аплодисменты собравшихся. А рассказать об этом Виталию уже не успел.
Читать только свои стихи скучно,объяснил он выбор репертуара. — Я под настроение публики всегда читал и Жукова, и Калашникова, и других авторов, включая Блока и Мандельштама. Жуков и Калашников тоже так делали. Для нас это было естественно.
К слову, о других авторах. У Андрея Анпилова в его эссе о Калашникове, помещенном на сайте «Ростов неофициальный», есть такой дивный эпизод: «… случайно встретил этом Виталия на улице. Бежит, сияет.
А у меня подборку сняли в «Новом мире»!
Это ты этим так доволен?
Но если б ты знал, кому я место уступил!»
Оказывается, Иосифу Бродскому. Это была первая официальная публикация Бродского, появившаяся в Советском Союзе в перестроечные годы.
То, что сегодня время непоэтическое, это вроде как аксиома. Нынешним молодым мнится, что раньше было подругому. Но не слишком поэтическим время было и четверть века назад. Большой, если не сказать огромный, интерес, когда рухнул Советский Союз, и дозволено стало прежде запретное, вызывали стихи поэтов русского зарубежья, Серебряного века. Остальные — не очень. Но популярна была бардовская (самодеятельная, как ее тогда называли) песня, а фестивали КСП устраивались по всей стране. Заозерники Жуков, Калашников и Бондаревский были на этих фестивалях желанными гостями, хотя и в КСП — клубах самодеятельной песни — к поэтам без гитары многие относились с предубеждением (у заозерников с гитарой был только Жуков).
Почему нас приглашали участвовать в тех концертах, тогда как других поэтов без гитары там не привечали? Мы писали не совсем стихи, а как бы, в нашем понимании, драматические монологи, комментирует эту ситуацию Бондаревский. — Есть такое понятие — актерская песня. А у нас была актерская поэзия: стихи, которые удобно было читать вслух, со сцены.
При этом — без навзрыдности, искусственного нагнетания страстей, ничего гипертрофированного. Выходил, к примеру, на сцену Калашников, читал проникновенно негромким голосом поэтический монолог, и, по меткому сравнению Ершова, парил над публикой, как рокзвезда.
Виталий был многоодаренным человеком. Рисовал, занимался керамикой. После его переезда в Москву рассказывали, что его коллекцию керамических украшений демонстрировал на своих показах известный столичный кутюрье, а коллекция керамических орхидей заинтересовала какуюто британскую галерею. При этом поэзию он не оставлял, говорили даже о его поэтическом турне по Америке. Он вообще всегда был полон планов и идей. Собирался вот приняться за пьесу для кукольного театра…
Виталия, как и Геннадия, погубила московская молотилка, уверен Валерий Чеснок. «Заозерная школа» была феноменом, не случайно появившимся в духовном пространстве Танаиса, под его античным небом.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что жизнь «Заозерной школы» в Танаисе — это бесконечная тусовка. Полная чушь! Существовали внешние атрибуты тусовки, некоторая театрализованность, но были и глубокие переживания и раздумья, и работа на археологических раскопах, и общение с историкамиинтеллектуалами, погружение в культуру античности. Недаром в их поэзии – особенно стихах Калашникова и Жукова — так часты имена античных поэтов, богов, героев. Близость этой прекрасной жизни, которая расцветала и кипела под небом Танаиса, и от которой остались лишь какието фрагменты, давала пищу для философских размышлений, заставляла острее чувствовать неповторимость сегодняшнего дня.
Поэзия рождается из востребованности. Здесь, в Танаисе, были так необходимые поэту понимание и бесконечное восхищение. В гибели Виталия много пока неясного, но в общих чертах ситуация мне видится так: это — трагедия невостребованности. Искал слушателей. Нарвался на бесбашенную бражку.
Когдато я мечтал построить дом, в котором бы жили все мои друзья, сказал мне Владимир Ершов. — Не удалось. Но я понял, что этот дом есть — он в моей душе. Теперь, правда, еще одна комната опустела… Но, знаете, с годами я перестал воспринимать смерть как катастрофу: тот, кто заснул вечным сном в одном месте, проснулся гдето в другом. И, может быть, наш Виталий родился теперь в семье какогонибудь древнего римлянина, и ему предстоит еще сражаться с варварами или трудиться на гончарном круге, или снова сочинять стихи.
Лишь ночью,
один на один со Вселенной,
Я вижу, сколь призрачна наша свобода,
И горестно плачу над жизнью
мгновенной,
Несущейся, словно звезда
с небосвода.
Сейчас промелькнет!
Я сейчас загадаю,
Ведь должен хотя бы однажды
успеть я…
Сверкнула! И снова я не успеваю
Сказать это длинное слово:
бессмертье!
P.S. На прошлой неделе прах поэта Виталия Калашникова был предан земле на его духовной родине — в окрестностях Танаиса, там, где тремя годами раньше обрел вечный покой его друг Геннадий Жуков.